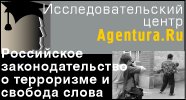|
| Фото Сергея Михеева (Коммерсант) |
«Приходилось совершать нелегальные вылазки»
Ольга Алленова, специальный корреспондент московской газеты «Коммерсант» - одна из тех, кто работал в Чечне с самого начала антитеррористической операции. Последний раз она была в Чечне год назад и считает, что ситуация в республике сегодня достаточно очевидная. Сегодня она ездит в Ингушетию и утверждает: то, что происходит там сегодня, очень напоминает чеченскую ситуацию конца 90-х годов.
- Ты начинала работать в Чечне с самого начала антитеррористической операции?
- В 1999 году я была стрингером, то есть ни на кого конкретно не работала. Осенью 1999 года я работала в газете «Северная Осетия» (я родом из этой республики), и как-то мне дали задание поехать на Моздокский аэродром на встречу с прилетавшим в Чечню Владимиром Путиным, он тогда был еще премьер-министром. Он прилетел, а ведь уже шла война, уже в Чечню были введены войска. Я сходила на эту встречу и написала материал для нашей газеты, после чего многое во мне изменилось - тогда на аэродроме я познакомилась с большим количеством российских журналистов и как бы увидела изнутри, как делаются новости, история. Это было очень ново для меня и мне хотелось продолжать ездить в Чечню, чтобы участвовать в написании этой истории, но тогда была такая позиция в Северной Осетии, что мы должны писать только все, нацеленное на мир. Дескать, войны в Чечне нет, у нас все хорошо, мир, дружба и так далее. А я все это видела совсем по-другому, тогда уже в Моздоке было много беженцев из северных казачьих станиц Чечни, они были унижены, измучены, напуганы, и все было слишком очевидно. В результате я решила уйти из своей газеты и писать для московских изданий. Я тогда уже была знакома с некоторыми московскими журналистами, но особых, крепких связей все же не было. Так что я работала стрингером несколько месяцев, иногда впустую. Предлагала свои статьи разным изданиям, например, «Российской газете», потом «Коммерсанту». «Коммерсант» взял мои материалы, после чего я стала с ними постоянно работать.
- Тогда РИЦ еще не работал, и ты ездила без специальных разрешений?
- Да, тогда разрешение не нужно было. Все журналисты работали на военной базе в Моздоке, на аэродроме. И попасть туда было не сложно, журналисты были внесены в специальный список, и их пускали на базу по пресс-картам. Другой вопрос, что попасть в этот список местным журналистам было почти невозможно, а у меня тогда все еще была местная пресс-карта, и я старалась «сесть на хвост» московским журналистам. Они ездили на машине с надписью «пресса», и их порой даже не останавливали. Потом, когда я уже немного обросла связями, меня все же внесли в список. Было трудновато, и все же это был не самый трудный период.
Трудно было, когда я уже работала внештатником «Коммерсанта», и с Моздокского аэродрома уже регулярно вылетал транспорт в Чечню. И попасть на вертолет, который вылетает в район боевых действий, не передовую – вот это уже было тяжело. Брали туда только центральные телеканалы, к тому же и проверенных людей, которых военные знали. Я не могла летать, наверное, полтора-два месяца - меня сразу отфутболивали. Не за статьи - тогда их еще никто и не видел. Отфутболивали только потому, что я местная журналистка, стрингер. Если ты не журналист центрального телеканала – ты никто, тебе сразу говорили «до свидания». Не только ко мне было такое отношение, ко многим газетчикам. И в какой-то момент я скооперировалась с ребятами, работавшими на ростовском военном телевидении, они ходили в военной форме, у них имелись какие-то специальные удостоверения, так что им было проще. И они меня стали брать с собой практически нелегально. Вертолет садится, военные говорят: «берем первый второй каналы и военное ТВ». А я где-то рядом, практически в кустах прячусь и жду. Как только кто-то из военных отвернется, мне журналисты машут, сигнал подают, я бегу и прячусь в вертолете, за брезентом. В Ми-8 внутри часто хвостовая часть была завешана брезентовой тканью, которая закрывала какие-то ящики, может, боеприпасы - я не знаю. В общем, они меня туда прятали. А когда уже мы в воздух поднимались, я вылезала из-за своей занавески. Естественно, никто не стал бы сажать вертолет, чтобы меня высадить. Долгое время так все и продолжалось.
- Когда вы прилетали в район боевых действий, вас водили только группой?
- Естественно, да никто бы и не полез на рожон. Это же война, и все прекрасно слышат, как кругом стреляют, что-то ухает и грохает. Передвигаться приходилось быстро и перебежками. Помню, мы прилетали на вертолете на Терский хребет – тогда там линия фронта проходила. Нас встречали какие-то офицеры, видимо, которые работали с прессой. Нас собирали и вели, кажется, в штаб командования, туда, где Шаманов сидел, и журналисты уже в штабе или рядом с ним что-то записывали. И по ходу где-то в окопах можно было быстренько пролезть, с солдатами поговорить. Но, честно говоря, содержательного ничего эти поездки мне не давали. Ну что скажут солдаты в окопах, или генерал, который в штабе находится? Все это можно было прочесть в сообщениях информационных агентств. Другой вопрос, что для меня все это было ново и интересно. Так что я настаивала на том, чтобы ездить в такие поездки. И так было весь год – с момента прилета Путина, с октября, и практически до самого Нового Года.
- Но ведь в то время должен был уже действовать Росинформцентр (РИЦ), разве с ним не надо было согласовывать свои действия?
- Я даже помню, с чего все это начиналось. В конце 1999 года в Моздок прилетел Сергей Ястржембский, посмотрел на нас и спрашивает: «И что, как вы тут работаете, вы вообще застрахованы»? А среди нас больше половины – стрингеры, никто не думал о страховке, никто не допускал мысли, что с нами что-то может случиться. Может, мы молодые были, поэтому и не думали об этом. Он, конечно, немножко обалдел от всего этого. И пообещал нам, что вскоре будут введены специальные правила для журналистов в Чечне. Кто их будет соблюдать, тому были обещаны встречные шаги и всяческая помощь в работе. Многих из нас это напугало, ведь согласно предполагаемым правилам, журналист должен был обязательно аккредитоваться от какого-то издания. Но если ты стрингер, то никто же тебя не аккредитует. Еще какое-то время, пока все это разрабатывалось, я продолжала ездить сама. А в начале 2000 года я уже поехала в Москву, чтобы мне выдали документ, чтобы «Коммерсант» меня официально аккредитовал. И вот появился этот Центр, согласно документам он уже работал, но я прекрасно помню, что с конца 1999 года и до начала 2000 года его на деле-то и не было. По прежнему всем заправлял пресс-центр Минобороны. Они решали, кого брать на борт, кому разрешить выезд в Чечню, а кому -нет. И они могли не взять с собой только потому, что журналист – внештатник. К тому же газета, более того – еще и какая-то «вражеская» газета. Так что приходилось совершать нелегальные вылазки, и я все равно ездила, как раньше, ребята меня запихивали в вертолет тайком. Хорошо помню, прямо перед праздниками, в самом конце 1999 года я именно так нелегально летала. Интересно, что этим же бортом летел сам Шаманов, и его пресс секретарь Натим Гаджимедов увидел меня уже в вертолете, когда я вылезла из-за своей занавески. И лицо у него было жуткое, но он Шаманову ничего не стал говорить, иначе влетело бы ему, прежде всего. Он меня, конечно, отругал, всем был «втык» за самодеятельность. Но он тогда все-таки очень помог - и разместиться, и организовать интервью с Шамановым, хотя я еще не знала, пойдет ли оно в результате куда-то. Это было мое первое интервью в «Коммерсанте».
- Ну а с появлением РИЦ что изменилось?
- С начала 2000 года были какие-то люди гражданские люди от РИЦа при пресс-центре Минобороны, которые выполняли эту работу, но собственно РИЦа все же не было. То есть все они работали при пресс-службе Минобороны, и все равно управляли всем военные. А руководил всем полковник Фирсов, который буквально пинал всех, кто не работал на центральные телеканалы. Пресс-центр Минобороны выдавал такие тоненькие бумажные акредитации, которые позволяли хоть как-то передвигаться. Но мне такая аккредитация не светила, потому что я была для них никто. И вот как-то благодаря вот этим гражданским от РИЦа, которые появились в военном пресс-центре, нам удалось достать пустые бланки со штампами, мы их сами и заполнили. Причем, там даже не было одной нужной печати и подписи, но как-то мы проходили. Военных на постах, видимо, это не очень интересовало, они видели, что бумага есть, и этого было достаточно. По этой бумажке я в начале 2000 года села в машину МЧС, и это была первая машина МЧС, которая въехала в Грозный сразу после бомбежек, хотя там еще были боевики. Это было самое начало января - я подошла к сотруднику МЧС, который формировал колонну, и сказала что я - журналист, корреспондент московской газеты. Естественно, я ему не сказала, что я - стрингер. Он посмотрел мою липовую аккредитацию и посадил меня в этот грузовик. Сотрудники МЧС вообще были там самыми нормальными людьми, с ними всегда легче всего работать. Впервые в Грозный я попала именно с ними - до этого журналисты летали под Грозный, в Черноречье, на другие позиции, но не в город. Мы приехали, а там такая жуть - разруха, трупы кругом, еще ничего не убрано. Такое впечатление, что полчаса назад только все и прекратилось.
- А уже внутри республики сотрудники РИЦ как-то отслеживали передвижения журналистов?
- После того, как я съездила в Москву и получила бумаги от «Коммерсанта», я вернулась в Моздок, на военную базу, где жили журналисты, и в этот момент туда и приехала группа людей Ястржембского, ее возглавлял Михайловский. Они тогда и перевезли журналистов с одной военной базы на другую, из Моздока в Ханкалу. Я попала в Ханкалу, и там, согласно правилам, установленным Ястржембским, мы самостоятельно вообще не могли передвигаться по Чечне - только с машиной сопровождения. Внутри военной базы можно было ходить где угодно, но там делать было практически нечего, а из нее - никуда. А что касается выезда с сопровождением, то огромная проблема была найти ведомственную машину, военные не очень любили с нами возиться. Если это и происходило - как правило, это все были какие-то показные вещи. Приезжали в Грозный, собирали каких-то русских людей возле церкви. И они говорили нечто типа «Ура Путину» или «Мы верим, что все будет хорошо». Чтобы хоть на метр отойти от этих людей, подойти к ближайшему дому, посмотреть, что там, поговорить с его жильцами – с этим уже были сложности, военные за всем наблюдали. Михайловский делал, что мог, он был хороший менеджер, но военный пресс-центр не особо давал им развернуться.
В марте 2000-го шли бои за Комсомольск, и туда попасть можно было только на вертолете. И вот собирает пресс-центр Минобороны журналистов, а нас там было 14 человек. И начальник пресс-службы Геннадий Алехин сказал мне: «Ты не летишь, я баб с собой не беру, это - плохая примета». За меня и коллеги вступались, дескать, если уж Минобороны так верит в приметы, то почему 13 пассажиров на борту военных не смущает. И все равно не взял. Было очень обидно, ведь меня уже знали, я чего-то добилась уже к тому времени. И в итоге я полетела в Комсомольск со знакомым штурманом, он меня попросил из вертолета не выходить. Сказал: «Обратно повезу раненых СОБРовцев, можешь с ними поговорить». Был, конечно, соблазн выйти из вертолета, когда он там приземлился, но я понимала, что и парня этого я подставлю, и неясно, как потом обратно добираться, да и страшно - стрельба кругом, куда бежать, все равно непонятно. А в апреле я начала сама потихоньку выходить с базы. Мне подали пример знакомые журналисты, съемочная группа ТВ-6, там был журналист Женя Баранов, экстремальщик, они с его оператором наняли машину и на ней ездили по Чечне без военных. Водитель их был из Дагестана, он жил с ними на базе - они как-то умудрились ему пропуск выписать. И у них всегда были эксклюзивные материалы. И я сначала ездила с ними, потому что с ними я видела настоящую войну, настоящую жизнь Чечни. Но телевизионщики работали две недели, а потом надолго уезжали, и после того, что я видела с ними, было совершенно невыносимо сидеть на базе в том информационном вакууме, который там существовал. И когда группа Баранова уехала, я начала выбираться с Ханкалы уже одна. Самое страшное – надо было выйти с базы и голосовать на дороге, ловить любую машину. А ведь это был 2000 год. Сначала у меня тряслись коленки, два-три раза все обошлось, а потом я как-то перестала бояться. Казалось, что-то сверху тебя кто-то ведет и охраняет. И с апреля до середины лета я так и ездила. В Гудермес или в Грозный или в Урус-Мартан – всюду, куда мне надо было.
- И что, военные, которые за журналистами наблюдали, они этого не видели? Они газету не читали?
- Видимо, не видели и не читали. Потому что проблем у меня не было никаких. Все мои коллеги знали, что я путешествую сама. Потом парень из газеты «Ставропольская правда» Эдик Корниенко подошел ко мне и говорит: «Я читаю твои репортажи и очень хочу тоже, как ты, сам везде ездить». И я взяла его с собой, и некоторое время мы ездили вместе. Ему понравилось, что можно реально что-то увидеть и куда-то попасть. Когда на трассу стали выходить мы вдвоем и ловить машину, мне уже было, конечно, совсем не страшно. Конечно, были неприятные ситуации. Однажды, мы поймали попутку в Гудермес, и водитель сказал, что довезет нас. А на Аргунском круге он нас высадил, сказав, что он передумал и на самом деле ему надо в Толстой Юрт, и дальше он нас не повезет. А в то время Аргунским кругом нас все пугали - говорили, что это ваххабитское место, что там рынок рабов, и там очень опасно. И вот мы – эдакие курортники, с рюкзаками, в шортиках и футболках, пешком шли через круг до ближайшего КПП, чтобы там, на глазах у военных, поймать попутку и ехать дальше. Пока мы шли, к нам прицепились четверо парней, у одного точно был пистолет, я видела, они шли за нами, спрашивали, кто мы и откуда. Шли довольно долго и вели себя недружелюбно. Мы сказали, что мы стрингеры, что мы не работаем ни на кого, только на себя и ценности ни для кого не представляем. Уж и не знаю, что тогда сработало, но они нас не тронули. Мы с моим тогдашним компаньоном до сих пор вспоминаем это, и он говорит, что это была самая страшная его история. Но ничего, тогда все казалось более спокойным – мы дошли до КПП, поймали машину и съездили в Гудермес.
А вот с середины лета у меня начались проблемы. Мой компаньон, кажется, уже уехал в Ставрополь. Помню, я возвращалась из Гудермеса, одна, меня в Ханкале тормозят солдаты на входе, спрашивают: «Кто такая». Хотя до этого не возникало таких проблем. Солдаты вызывают машину, везут меня в пресс-центр с ханкалинского КПП. А в пресс-центре мне говорят, дескать, «мы узнали, что ты сама ездишь, ты нарушаешь правила, мы тебя лишим аккредитации и вышлем в Москву». Я им сказала, что ради Бога, пусть высылают. Но тогда я вернусь в Чечню следующим же рейсом и буду работать тут вообще без аккредитации. А в то время Ястржембский не лишал аккредитации вообще никого. Я помню, во время моей работы там, может быть, был один или два случая лишения аккредитации каких-то иностранцев. И за какое то серьезное нарушение с их стороны. Я прекрасно знала, что лишение права работать в Чечне - это грандиозный скандал, и сотрудники РИЦ на это не пройдут. И оказалась права. Они меня никаких прав не лишили, но руководитель пресс-службы Минобороны Константин Кухаренко (тогда все еще решали не люди Ястржембского, а военные) сказал мне, что раз я нарушаю правила, то на базе меня больше не будет.
- А как себя вел в той ситуации РИЦ?
- Ну, в тот момент их уже в Ханкале не было. Они как-то очень мало там просуществовали. А вообще лично для меня сотрудники РИЦ сделали очень много. Во-первых, у них был Интернет, и им могли пользоваться все журналисты в Ханкале. Во-вторых, у них был спутниковый телефон. Да, у меня тогда уже тоже был свой спутниковый, но ведь были журналисты, у которых вообще не было связи, и Михайловский им помогал. Затем, они очень грамотно вели себя с военными. Благодаря Михайловскому и его людям, мы часто куда-то выезжали – в Грозный, на какие-то спецоперации, они нам зинданы чуть ли не дудаевские находили. Заходишь в подвал – а там еще одеяла лежат, подушки, на которых спали пленные. Они «трясли» военных, чтобы те давали журналистам информацию. Они – профессионалы, и понимали, что если информацию не давать, то журналист будет искать ее сам. А если поделиться, то большая часть журналистов удовлетворится тем, что им дали. Так что этим ребятам я только спасибо могу сказать. И им было не важно, что я - внештатник. Михайловский говорил: «Мне важно, что ты пишешь, и твои заметки выходят в «Коммерсанте». А военным было важно, есть ли у меня документы. Но группа Михайловского просуществовала там всего пару месяцев, в конце апреля их работу стали сворачивать, и они уехали. Может, кто-то из них и остался, но я к тому времени уже перестала пользоваться услугами пресс-службы. И когда меня задержали в Ханкале, Михайловского там уже не было. В общем, когда Кухаренко сказал мне, что раз я не выполняю правила, то, что называется, «до свидания», я, честно говоря, даже обрадовалась. Трудно было каждый день выходить с базы, ловить машину, тратить на это время и силы. Проще было жить Грозном, нанять кого-то из местных жителей и ездить по республике с ним. Так что я собрала вещи и ушла. А Кухаренко напоследок договорился даже до того, что сказал, дескать, я неизвестно где хожу, а потом у них с базы утечки происходят. Я говорю: «Погодите, неужели я имею доступ к секретной информации? То, что я говорю по «спутнику», - все это можно прослушать. Какой-то бред! Скажите честно, что вам не нравится, что я добываю независимую информацию». Они же давали журналистам только дежурные пресс-релизы, сухие цифры – обстреляно столько то домов, ранено столько-то, погибло столько-то. Так что я уехала из Ханкалы. Сначала жила в Гудермесе – на тот момент у меня уже появились знакомые, и я жила у них, хозяин дома меня и возил по окрестностям.
- А ваши знакомые чеченцы – они видели, что в итоге выходит в вашей газете?
- Думаю, они ничего не видели, там не было ни газет, ни Интернета, и это были простые люди. Впрочем, я ничего такого, что могло бы оскорбить их чувства, и не писала. Благодаря этим людям, я многое узнала - поняла чеченский менталитет, чеченских мужчин и женщин, которые очень по-разному смотрят на жизнь, поняла, что такое для них эта война и мы, русские, которые туда пришли. Я перестала видеть в них врагов и поняла, почему они видят врагов в нас. Потом я переехала в Грозный, жила у других знакомых, и это уже были люди посерьезнее, вхожие во власть. Хозяин дома, где я жила в Грозном, был в ополчении у авторитетного чеченца, у него было оружие, в общем, у него было довольно безопасно жить. Естественно, тогда я уже чаще ездила в Москву. Чтобы попасть в Москву, надо было долететь до Моздока на вертолете. Пока я жила в Ханкале, я так и делала. Но чтобы попасть на борт, надо было специальное направление пресс-центра Минобороны, а я же с ними разругалась. Так что все держалось на личных контактах. У меня были знакомые штурманы на вертолетах, которые летали в Моздок, они меня сажали к себе в кабину, и я летала с ними. И эту проблему надо было решать каждый раз заново. Можно было просидеть в Ханкале на взлетном поле сутки или двое, прежде чем дождешься «своего» штурмана – и это только чтобы до Моздока долететь.
- Как изменилось отношение к журналистам после упразднения РИЦ? Сложно ли работать в Чечне сегодня?
- Нет, сейчас мне не сложно работать в плане легитимности, легальности. Меня никто нигде не задерживает. Были проблемы после нападения боевиков на Нальчик, когда я написала несколько критических материалов о работе МВД. Довольно долго аккредитацией журналистов в Чечне занималось МВД России. И после этих статей мне не дали аккредитации в Чечню, и я не смогла поехать на парламентские выборы. Это был 2005 год. А потом я ездила в Чечню уже без всяких специальных бумаг. Там уже даже на постах этих аккредитаций не спрашивали. Ведь войны нет, спецоперации нет, так почему я, гражданин России, не могу туда поехать? Если вспомнить Беслан, то тогда чекисты на Кавказе отсеивали некоторых журналистов – какую-то грузинскую группу задержали, были истории с Политковской, с Бабицким. Но у меня проблем не было. И сейчас у меня нет сложностей с передвижением по республике, но в целом обстановка там очень угнетает. Я обычно прилетаю в Махачкалу или во Владикавказ, беру такси и еду в Грозный на такси, только с паспортом, даже журналистское удостоверение стараюсь не показывать. Там сейчас проблемы с тем, что чиновники всего боятся. Ведь Кадыров - авторитарный руководитель, и все его подчиненные боятся слово молвить. И объективную информацию получить сложно. Если сегодня работать только с пресс-службой, то все так же, как во время войны - ничего толком не узнать и не увидеть. Надо жить там и работать с местными жителями. И это все еще довольно рискованно – к российским журналистам большинство местных относятся раздраженно, дескать, «вы все врете, а мы страдаем из-за вас». Но нормальную информацию можно получить только так – приехать, не афишируя себя, и пытаться работать. И желательно не попадаться на глаза кадыровской службе безопасности. Потому что если что-то случится, что-то произойдет в селе, в котором ты живешь, то у службы безопасности и в МВД будут к журналисту те же вопросы - а что это пресса тут делает, что это она тут пишет.
- А обычные люди не боятся с журналистами общаться?
- Если люди знают, что я не подставлю и не упомяну их имена, они все скажут. У меня сейчас в Чечне все еще много знакомых, с которыми можно поговорить. Они дают мне информацию, которую я могу использовать. Вот, например, недавно я написала статью о том, как в Чечню приехал Сергей Степашин с проверкой от Счетной палаты. Кадыров его повел в новое здание чеченского УФСБ, и его охрану в здание не пустили, попросив разоружиться. Это же нормальное требование, почему непонятные люди с оружием должны свободно проходить в здание УФСБ? Но Кадыров разозлился и ушел оттуда вместе со своей охраной. А через два часа ворота в здание по всему периметру были заварены, и сотрудники УФСБ оказались там заблокированы на целые сутки. Лишь депеши Патрушеву слали с просьбой о помощи. И Патрушев лично звонил Кадырову и разбирался. Только после этого ворота была разварены. А если бы в эти сутки что-то произошло в Грозном? А чекисты в это время в блокаде... Бред! Мне эту историю рассказали знакомые, которые точно знали, что я их не выдам. Я насобирала еще несколько похожих историй, и получился в результате большой материал, что Кадыров – эдакий князек, который распоряжается и Чечней, и российскими силовиками. Выходит, война была зря, раз сидит теперь в Чечне второй Дудаев и делает, что ему вздумается. Только сколько людей погибло. И сколько денег закачивается в республику, хотя сама республика - отрезанный ломоть. При всем этом я уверена, что чеченский народ заслуживает именно такого руководителя, как Кадыров. Наверное, никто другой, более мягкий или интеллигентный, не сможет держать эту республику в узде. В общем, если бы не личные связи, я бы не смогла всего этого написать. Я бы работала с пресс-службами и была бы уверена, что там все в порядке.
- Есть ли реакция на такие твои статьи?
- Конкретно на мои статьи реакции нет. Но знакомые рекомендуют мне в Чечню не ездить и Кадырову на глаза не попадаться. Хотя однажды уже меня тоже предупреждали - после того, как я написала материал о сдаче ичкерийского бригадного генерала Магомеда Хамбиева и взяла у него интервью, знакомый авторитетный чеченец предупредил меня: «Рамзан очень злой из-за этой статьи». Через пару месяцев я встретилась с Кадыровым в Москве, он назначил интервью в своем номере в «Золотом кольце», мы туда пришли с фотографом, и мне было не по себе, тем более что там целый этаж кадыровский, и одни его охранники кругом. Но ничего, он был довольно сдержан, даже не напомнил об этом тексте про Хамбиева, только спросил: «За что вы меня так не любите?» Так что, я думаю, этот человек, когда надо, умеет держать себя в руках. В Чечню я уже не езжу давно, последний раз я была там прошлой осенью, чуть меньше года назад. Сейчас для меня Чечня не актуальна, я прекрасно понимаю, что там происходит. У меня там много знакомых и все говорят примерно одно и то же. А вот что происходит в Ингушетии, я не понимаю. Такое впечатление, что сейчас там творится то же самое, что было в Чечне в самом начале. Там никто ничего не контролирует, никто не понимает, что происходит, люди страшно злые. Ингуши видят в нас источник опасности, мы их боимся, а они - нас. Последний раз, когда я ездила в Ингушетию, было очень страшно. Через КПП не пропускали, и только когда я им сказала, а в чем, собственно, проблема, сейчас нет войны, почему мне нельзя проехать – только после этого меня пропустили, сказав, что никакой ответственности за меня нести никто не хочет. То есть пропустили, но чуть ли не с угрозами, что я оттуда не вернусь. К журналистам там плохо относятся все - даже милиция и военные. В Карабулаке знакомого оператора милиционеры толкали автоматом в живот и требовали отдать кассету. Еще одну съемочную группу выгнали за оцепление и с угрозами запретили снимать. И все это очень плохо, потому что если журналистам не дают работать, значит, общество не сможет узнать, что происходит в этом регионе.
Подготовила Марина Латышева |